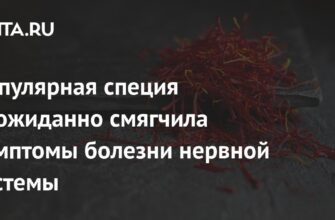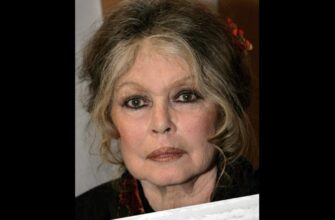Петербургский международный экономический форум 2025 года завершился, оставив не только оптимистичные заявления о технологическом суверенитете, но и очевидные признаки беспокойства за будущее российской экономики. Выступления ключевых представителей экономического блока не оставляли сомнений: страна находится на пороге перемен. Министр экономического развития Максим Решетников прямо заявил о близости рецессии: «По ощущениям бизнеса, мы уже, кажется, на грани перехода в рецессию». Глава Банка России Эльвира Набиуллина констатировала, что «ресурсы исчерпаны», а министр финансов Антон Силуанов с долей иронии отметил: «Сейчас остатков нет. Исполняем все до копеечки». Общий тон выступлений высокопоставленных чиновников свидетельствовал о потере уверенности в действующей экономической модели и поиске новых направлений и решений.
Модель: старый корабль в поисках нового курса
На форуме стало ясно: дискуссия уже не о том, нужно ли менять экономическую модель, а о том, как и на какую именно ее трансформировать, не навредив при этом стабильности. Мнения представителей экономического руководства разделились.
Министр финансов Антон Силуанов продолжал настаивать на приоритете стабильности. Он утверждал: «Мы живем в таком сложном мире, Россия растет на 4 с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет, модель работает». Однако это утверждение о «работоспособности» модели звучало все менее убедительно на фоне его же признания о пустой казне: «Сейчас остатков нет. Исполняем все до копеечки», что резко контрастировало с прошлогодними оптимистичными прогнозами профицита.
Более сдержанно и тревожно выступал Максим Решетников. Его слова звучали как предупреждение: экономика на грани рецессии, бизнес отмечает замедление, ресурсы для нового роста почти исчерпаны. «По ощущениям бизнеса, мы уже, кажется, на грани перехода в рецессию», — повторил министр. В качестве пути предложил не резкие изменения, а «преемственный» переход, подразумевающий не полную перестройку, а скорее настройку и перезапуск имеющихся механизмов.
Наиболее четко необходимость изменений сформулировала Эльвира Набиуллина: «Многие из этих ресурсов действительно исчерпаны, нам надо думать о некоторой новой модели роста». В ее выступлениях часто звучали термины «лимиты», «драйверы исчерпаны», «структурные ограничения». Вопрос ключевой ставки, волновавший многих участников, по ее мнению, требует постепенного снижения, но осторожного, поскольку инфляция, несмотря на все усилия, остается высокой.
Таким образом, контуры будущей экономической модели пока размыты. Период 2022–2023 годов, с ростом ВВП более 4%, низкой безработицей и позитивным внешнеторговым балансом, создал видимость устойчивости. Но в 2025 году темпы замедлились до 1,4%, промпроизводство стагнирует, а доходы бюджета сокращаются быстрее ожидаемого. Кулуарные разговоры на ПМЭФ чаще касались не перспективных проектов, а дефицита ресурсов: квалифицированных кадров, производственных мощностей, денег в Фонде национального благосостояния.
Главный вывод форума: экономическая модель себя исчерпала, и это признается на официальном уровне, но при этом нет ясного понимания, какой должна быть новая.
Инфляция и ставка: точки общего беспокойства
Если в предыдущие годы дискуссии о ключевой ставке и инфляции на ПМЭФ напоминали академические семинары с аккуратными формулировками, то в этом году они превратились в напряженное обсуждение экономической дилеммы. Экономика замедляется, инфляция остается высокой, ставка ЦБ по-прежнему на высоком уровне. Спор обострился.
На пленарной сессии Владимир Путин сообщил об уровне инфляции в 9,5% на середину июня. Для президента это лучше, чем прогнозировалось, но для аудитории — тревожный сигнал. Сочетание замедления роста и устойчивой инфляции — это не просто статистика, это предвестник стагфляции.
Вице-премьер Александр Новак выступил с призывом не «охлаждать» экономику высокой ставкой, а, наоборот, «нагревать». Это заявление прозвучало почти как вызов принципиально жесткой позиции Центробанка. Представитель ЦБ Андрей Ганган прямо ответил: «Быстрое снижение ставки приведет не к росту ВВП, а к ускорению инфляции». За этим простым тезисом стоит фундаментальная стратегия регулятора.
Максим Решетников пытался найти компромисс. Он не настаивал на немедленном снижении ставки, но просил о большей гибкости. «Вы же не хотите, чтобы мы скатились в турецкий сценарий?» — риторически спросил он, намекая на катастрофу инфляции в Турции, вызванную отказом от жесткой монетарной политики. Однако и сохранение ставки на уровне, который сдерживает экономический рост, тоже не является решением.
Министр финансов Антон Силуанов неожиданно проявил себя как оптимист, предложив «верить» в снижение инфляции. «Главное — вера в снижение инфляции. Если верить в четыре процента — точно сбудется», — сказал он. Реплика была встречена тепло, но, видимо, без особой убежденности. Цены в магазинах оказались сильнее любых пожеланий.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отошла от привычного сухого стиля, предложив «поговорить о музыке вместо ставки» и сравнив ситуацию с Девятой симфонией Бетховена — «сложное сочинение, не сразу угадаешь мелодию».
В кулуарах форума представители финансовых структур, включая банкиров и макроэкономистов, в один голос признавали: инфляция укоренилась. Бороться с ней традиционными методами все сложнее, особенно в условиях нарушенных логистических цепочек, ограниченного импорта и постоянной геополитической неопределенности. Как выразился один из экономистов госбанка: «Мы давим ставкой по асфальту, но колеса вязнут в гравии».
Главный вопрос остается открытым: как справиться с этим «гравием»? Одни надеются, что ставка начнет снижаться уже осенью, другие убеждены — без глубоких структурных изменений в экономике монетарная политика будет бессильна.
В этом году обсуждение ставки вышло за рамки технической дискуссии, став отражением общего беспокойства. Снижать ставку опасно, удерживать — больно. Но самое тревожное — отсутствие единого видения дальнейшего пути.
Рынок труда: фактор, сдерживающий рост
Проблема дефицита кадров, которую раньше старались не акцентировать, на ПМЭФ-2025 оказалась одной из центральных тем. Ни один другой экономический показатель не звучал так часто и с такой тревогой, как нехватка трудовых ресурсов, особенно квалифицированных специалистов, способных работать с высокой производительностью. Дефицит на рынке труда в 2025 году — это серьезный диагноз.
«Россия должна перейти к экономике высоких зарплат, основанных не на дефиците кадров, а на повышении качества и производительности труда», — сформулировал задачу Владимир Путин. В этих словах — и долгосрочная цель, и отражение текущих проблем.
Министр труда Антон Котяков уточнил, что к 2030 году потребуется дополнительно 2,4 миллиона специалистов, в основном рабочих профессий. Президент РСПП Александр Шохин назвал еще большую цифру — 11 миллионов вакансий к 2029 году. Разница в цифрах не меняет сути: кадровый голод масштабен, и пока нет четкого понимания, как его преодолеть.
В кулуарных обсуждениях представители бизнеса — от крупных холдингов до малых предприятий — говорили об одном и том же: «Жуткий кадровый голод». В поисках решения вовлекаются все группы населения: школьники как будущий резерв, пенсионеры как вынужденная рабочая сила, мигранты как средство экстренного решения проблем. Но даже эти меры работают не всегда эффективно. Один из участников форума привел пример: «Привезли вьетнамцев на Сахалин — не сдали экзамен по русскому, теперь за свой счет везем обратно. А каменщик уже стоит 300 тысяч». Неконтролируемый рост зарплат, опережающий производительность, становится новой экономической ловушкой.
Представитель Центробанка напомнил, что рост стоимости рабочей силы — один из ключевых инфляционных факторов. Пока зарплаты растут быстрее производительности, ситуация с инфляцией будет обостряться.
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 тысяч рублей к 2026 году, анонсированное Котяковым, поддержит 4,6 миллиона человек. Однако в кулуарах отмечали, что индексация МРОТ — это не только вопрос социальной справедливости, но и дополнительное давление на бизнес, особенно в менее развитых регионах.
Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что до 70% вакансий в ближайшие годы будут требовать среднего специального образования. Именно эта сфера оказалась наименее готовой к вызовам. «Региональные системы профобразования работают не на спрос, а по старинке», — звучало на сессиях.
По мнению главы образовательной платформы Елены Шмелевой, начался новый трудовой цикл, который продлится 20–30 лет и связан с технологическими и геополитическими изменениями. Пока же на уровне текущей экономики наблюдаются дефицит и перегрев.
Курс рубля: между реальностью и желаемым
Еще одной темой напряженных дискуссий стал курс национальной валюты. «Мы на пике экономической неопределенности», — признал глава одного из крупнейших госбанков Герман Греф. Он четко обозначил уровень, который считает оптимальным: «Равновесный курс рубля сейчас — 100 рублей за доллар. Текущий курс 78–79 — слишком крепкий. Это удар по экспортерам и в первую очередь по бюджету».
«Укрепление рубля вредно для экономики», — вторил ему глава другого крупного госбанка Андрей Костин. По его мнению, необходимо двигаться к курсу «90 плюс» за доллар, иначе возникнут системные проблемы с экспортом и экономическим ростом.
Первый вице-премьер Денис Мантуров также высказался определенно: «Оптимальный курс доллара для российских экспортеров и импортеров — около 100 рублей». Крепкий рубль снижает рентабельность промышленности. Это подтвердил глава РСПП Александр Шохин: «Бизнес ориентируется на курс в диапазоне 90–100 рублей за доллар как на предсказуемый и приемлемый для планирования и работы».
Однако Центробанк традиционно придерживается своей позиции. «Равновесный курс рубля — это результат баланса спроса и предложения. То, что мы видим сейчас, и есть он. Даже если не совпадает с экспертными мнениями», — заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
Проблема не только в цифрах, но и в противоречивых ожиданиях. Население хочет сильный рубль для доступности импорта. Экспортеры нуждаются в слабом рубле для поддержания доходов и конкурентоспособности. Бюджету нужен курс, обеспечивающий максимальное наполнение казны. «С текущим курсом сложно планировать. А с колеблющимся — просто невозможно», — посетовал один из участников Форума в кулуарах.
В этом противостоянии интересов населения, бизнеса и государства курс рубля стал символом неопределенности системы, у которой все меньше возможностей для маневра и все больше обязательств.
Нефть и геополитика: время прощаться с иллюзиями
На ПМЭФ-2025 о нефти говорили не столько в контексте роста доходов, сколько в смысле уязвимости и выживания. Геополитика ощущалась как невидимая, но мощная сила, способная в любой момент изменить правила игры. «Определенные риски есть», — признал вице-премьер Александр Новак. Логистика пока работает, поставки идут, но рынок напряжен и остро реагирует на любые сигналы.
Владимир Путин постарался развеять опасения: «Рост цен на нефть незначителен. Паники нет. Ситуация не требует оперативной реакции со стороны ОПЕК+». Министр финансов Антон Силуанов добавил прагматизма: «Конечно, высокая цена на нефть даст нам оптимальные нефтегазовые доходы. Но мы строим политику независимо от этого. Лишние доходы пойдут в ФНБ — и слава богу».
Тем не менее, в кулуарах обсуждались не сверхприбыли, а необходимость сохранения ресурсной базы. «Энергетика — основа всего нашего хозяйства», — напомнил Новак. Но и эта основа подвержена рискам: логистика усложняется, издержки растут, поиск новых рынков затруднен. «Арабские страны уже выходят из зависимости от монопродуктов. Нам тоже пора», — резюмировал он, скорее выражая пожелание, чем описывая текущее положение дел.
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс заверил, что организация будет игнорировать политические факторы в анализе рынка. Но фактически эти факторы уже глубоко встроены в цену барреля. Как отметил один из экономистов: «Это уже не просто нефть — это компресс из рынка, геополитики и нервной системы». Похоже, в этом году нефть — не якорь стабильности, а скорее фактор раскачивания всей экономической конструкции.
Диагноз: прощание с иллюзиями
Главный итог форума — заметное снижение ритуального оптимизма. В этом году никто не спешил праздновать победы. «Мы на пике экономической неопределенности», — заявил крупный финансист. Путин предостерегал от стагнации. Решетников говорил о риске рецессии. Набиуллина — об исчерпании ресурсов. Греф — о проблемах неплатежей. Даже те, кто годами утверждал, что в экономике «все хорошо», стали гораздо осторожнее в своих оценках и прогнозах.
ПМЭФ-2025 стал переломным моментом: если раньше обсуждали, как двигаться вперед по намеченному пути, то теперь — куда двигаться вообще. Ясного ответа пока нет. Но впервые за долгое время открыто прозвучал важнейший вопрос: не ведет ли привычная траектория развития в тупик?